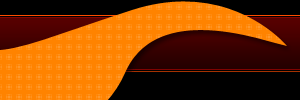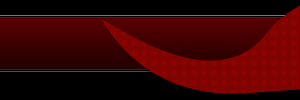(Опубликовано в журнале "LEX RUSSICA" №4-2013)
08/05/2013
 Главной особенностью обязательств, применяемых в обороте электроэнергии, является их качественное отличие от обязательств из договоров купли-продажи, обеспечивающих оборот вещно-товарных ценностей. Традиционные гражданско-правовое конструкции товарооборота (договор купли-продажи с присущим ему эффектом передачи права собственности) оказались полностью неприспособленными для обеспечения оборота такого специфического объекта, как электроэнергия. В связи с чем практика настоятельно требует выработки новых правовых инструментов обеспечения оборота электроэнергии, адекватных этому обороту.
Главной особенностью обязательств, применяемых в обороте электроэнергии, является их качественное отличие от обязательств из договоров купли-продажи, обеспечивающих оборот вещно-товарных ценностей. Традиционные гражданско-правовое конструкции товарооборота (договор купли-продажи с присущим ему эффектом передачи права собственности) оказались полностью неприспособленными для обеспечения оборота такого специфического объекта, как электроэнергия. В связи с чем практика настоятельно требует выработки новых правовых инструментов обеспечения оборота электроэнергии, адекватных этому обороту.
Анализ отношений, составляющих данный оборот в рамках оптового и розничных рынков, приводит к выводу о необходимости корректировки системы законодательного регулирования оборота электроэнергии. Законодательное закрепление вещно-правовых инструментов оборота электроэнергии никак не влияет на то, что действующий на сегодня оборот de facto уже давно основан на обороте особого рода прав на электроэнергию . Это проявляется в том, что участники оборота электроэнергии практически полностью лишены возможности осуществлять правомочия собственника товара, а также его покупателя или продавца, предусматриваемые ГК.
Существующее на сегодня некорректное применение правовых инструментов создает возможности для нарушения баланса интересов в договорах энергоснабжения, ограничения ответственности энергоснабжающей организации и нарушению прав потребителей электроэнергии.
Динамический характер электроэнергии, а также одномоментность процессов производства и потребления электроэнергии, невозможность накопления и хранения электроэнергии de facto приводят к необходимости применения такого инструмента, как права на электроэнергию, которые по существу и становятся предметом оборота в рамках энергорынка. На сегодня система оборота прав на электроэнергию, по сути, даже не может рассматриваться как de lege ferenda. Весь оптовый рынок электрической энергии и мощности (далее – ОРЭМ) функционирует на основе передачи особого рода прав в отношении электроэнергии. Поэтому предлагаемые коррективы имеют, прежде всего, юридический, а не экономический характер. В связи с этим необходимо провести юридический анализ этой новой системы, которая уже в принципе не вписывается в традиционные категории гражданского права и конструкции ГК.
Виды и правовая природа данных прав нуждаются в детальном рассмотрении. Так, в частности, следует обратить внимание на взгляды немецкой доктрины по данному вопросу, где отмечается, что «невозможность хранения электроэнергии ведет к тому, что фактически продается право на отбор электроэнергии, а не электроэнергия, как таковая» . Право на отбор электроэнергии уполномочивает его владельца на получение электроэнергии из сети на протяжении определенного периода времени в будущем. Лицо, отчуждающее (реализующее) данные права, в течение того же периода времени обязано предоставить соответствующий объем электроэнергии .
Очевидно, что подобная конструкция не может рассматриваться в качестве цессии, но в то же время не подпадает под традиционное представление о купле-продаже. В германском праве вопрос правовой квалификации данных отношений был разрешен в ходе реформы обязательственного права, которая распространила сферу применения договора купли-продажи на большинство видов имущества, в том числе энергоресурсы . Тем не менее, данный выход является далеко не единственным. Другой подход может заключаться в специализации конструкции договора энергоснабжения посредством обоснования концепции оборота прав на электроэнергию, передача которых составляет предмет договоров, обеспечивающих энергоснабжение потребителей.
Фикционный подход к электроэнергии, согласно которому электроэнергия признается товаром (вещью), обеспечивает ее оборотоспособность, однако его применение не позволяет уйти от финансовой сути реализационных обязательств в энергоснабжении. В то время как реализация электроэнергии – это в чистом виде финансовая сделка, поскольку не подразумевает фактического потребления имущества, передачи его в собственность, заключается исключительно в торговле правами на электроэнергию, которая происходит в рамках оптового и розничных рынков. В этой связи В.Г. Нестолием высказывается интересная мысль о том, что «договор купли-продажи электроэнергии относится к группе вспомогательных договоров в электроэнергетике», тогда как «договор об оказании услуг по передаче электроэнергии входит в группу основных (базовых) договоров в электроэнергетике» . Очевидно, что разделение на основной и вспомогательный данных договоров едва ли позволяет решать какие-либо практические проблемы. При этом следует отметить, что в сфере энергоснабжения расчеты за электроэнергию (которые обеспечивает финансовое обязательство в реализационном договоре) не менее важны, чем обязательства по снабжению электроэнергией. Оплата составляет предмет обязательства покупателя перед продавцом, направлена на финансирование деятельности по производству электроэнергии. Однако же выделение двух типов отношений в электроэнергетике, которые имеют качественно различный характер (в первом случае финансовый, во втором – технологический), имеет действительно принципиальное значение.
Так, по мнению С. Стофта все рынки электроэнергии (кроме рынка реального времени, под которым он понимает балансирующий рынок) являются финансовыми рынками, «в том смысле, что физическая поставка электроэнергии осуществляется по усмотрению продавца, и продавец несет лишь обязательство финансового характера… На многих форвардных рынках, включая рынки на сутки вперед, для продажи электроэнергии участникам рынка не нужно даже владеть собственными генерирующими мощностями. Рынок же реального времени – физический, поскольку все сделки соответствуют реальным потокам электроэнергии» . На сегодня вполне обоснованно говорить о возникающем разделении товарных и финансовых потоков в энергетике, поскольку деньги с потребителей получают не субъекты производственной деятельности (генерация и передача электроэнергии), а субъекты, обеспечивающие финансовыми средствами производственную деятельность . Возникающие в связи с этим типы отношений основаны на обороте соответственно финансовых и технологических прав на электроэнергию. Для обозначения указанных прав, применяемых в обороте электроэнергии, предлагается следующая терминология:
• финансовые права (оборотные права, посредством которых обеспечиваются расчеты за вырабатываемую электроэнергию);
• физические права (права, обеспечивающие возможность использования электроэнергии конечными потребителями) .
Применение конструкции физических и финансовых прав на электроэнергию становится единственно возможным методологическим средством раскрытия природы отношений в современной электроэнергетике. Помимо различий в экономической природе, принципиально важным видится также их правовое разграничение. Их исследование может послужить основанием для развития особой теории субъективных имущественных прав, расширение системы которых свидетельствует о поступательном развитии экономических отношений и адекватных им правовых инструментов.
Остановимся на особенностях финансовых прав на электроэнергию. Необходимость их выделения стала следствием анализа договорных конструкций, применяемых в энергобирже и срочном рынке. Специфика конструкций реализационных договоров энергорынка состоит в том, что в них отсутствует вещный эффект – передача права собственности на товар.
Кроме того, отсутствует возможность физической передачи реализуемого товара, принимая во внимание запрет на совмещение конкурентных и монопольных видов деятельности в электроэнергетике: продавец не может сам осуществлять передачу реализуемой электроэнергии. Поэтому реализационные сделки на ОРЭМ сами по себе не предусматривают физической поставки электроэнергии. Речь идет о договорах, заключаемых на ОРЭМ и розничных рынках электроэнергии (далее – РРЭ), которые называются в законодательстве договорами купли-продажи электроэнергии. Поэтому для физического исполнения данных договоров совершенно необходимо осуществление соответствующих действий сетевой организацией . Тогда как сами по себе данные договоры физической поставки электроэнергии не предусматривают.
Другой важной особенностью реализационных договоров на ОРЭМ является то, что покупатель получает право требовать от генератора выдачи определенного объема электроэнергии в сеть, однако это право непосредственным образом никак не связано с возможностью получения конкретных объемов электроэнергии. При этом важно отметить, что в рамках ОРЭМ в сети Федеральной сетевой компании (ФСК ЕЭС) энергию выдают одновременно многие генерирующие компании, в связи с чем происходит своего рода обезличивание «продукции». Если в нефтяном секторе при передаче нефти через нефтепровод обезличивания продукции не происходит , то в рамках ОРЭМ происходит её полное обезличивание в процессе исполнения обязательств.
Поэтому оборот электроэнергии возможен только через права, которые обеспечивают возможность подключения к электросети и выбора из нее определенных объемов электроэнергии. При этом физическая поставка электроэнергии осуществляется только в случае, когда финансовому праву на электроэнергию сопутствует физическое право на пользование электросетью.
Указанные реализационные сделки обеспечивают предоставление покупателю финансовых прав на электроэнергию. При этом физические права на электроэнергию покупатель получает не от генерирующей компании, а от сетевой компании, притом на основании совершенно другого договора.
Деятельность по реализации электроэнергии, по сути, сводится к оплате вырабатываемой генератором электроэнергии в соответствии со сводным прогнозным балансом производства и поставок электроэнергии. В этом случае отношения, по сути, носят чисто финансовый характер, обеспечивается оплата производства договорного объема электроэнергии, то есть происходит торговля финансовыми правами на электроэнергию, которые непосредственно не зависят от физической поставки электроэнергии. Оплата финансовых прав в данном случае направлена на покрытие издержек генерации. Поэтому торговля финансовыми правами представляет собой определенный механизм финансирования генерации, в рамках которого финансовые права становятся основными инструментами данного механизма.
Кроме того, в Основных положениях функционирования розничных рынков электрической энергии (далее – ОПФРР) установлено, что для продажи электроэнергии на РРЭ энергосбытовая организация должна располагать «правом распоряжения» электроэнергией, подаваемой потребителю (п. 55-57 ОПФРР). Очевидно, что в данном случае речь идет именно о финансовом праве на электроэнергию, поскольку транспортировка (и предоставление физических прав на электроэнергию) обеспечивается по договору сетевой организацией. Наличие финансового права на электроэнергию становится предпосылкой заключения договора с сетью (п. 2 ст. 26 ФЗ «Об электроэнергетике») и получения физических прав на электроэнергию, которое позволяет выполнить ГП свои обязательства перед потребителем по предоставлению последнему права на отбор электроэнергии из электросети.
Следует особо отметить существенную специфику содержания, а также функциональную роль данных прав в рамках соответствующих обязательств, поскольку указанные параметры выступают в качестве конституирующих признаков соответствующих реализационных договоров на ОРЭМ.
По своему содержанию финансовое право представляет собой право требовать выдачи электроэнергии в сеть. В этой связи соответствующая данному праву обязанность, в конечном счете, должна быть адресована генератору. Так, в литературе применительно к энергорынку Дании отмечается, что генератор «продает электроэнергию в сеть» .
Интерес представляет правовая природа договорных инструментов, обеспечивающих реализацию данных прав (и, в конечном счете, оборот электроэнергии). Очевидно, что институт цессии в данном случае неприменим, поскольку нет обязательства, из которого права могли бы уступаться. Также едва ли возможна квалификация данных отношений как торговли будущей вещью (п. 2 ст. 455 ГК), поскольку электроэнергия не появится в обладании его продавца и в будущем. При этом конструкция с применением права собственности в данном случае также оказывается невозможной.
Исходя из этого, возникает необходимость разработки новых механизмов оборота имущественных прав требования. Так, следует отметить, что в новой редакции ГК установлена новая конструкция, допускающая уступку будущих требований в сфере предпринимательской деятельности (ст. 388.1 ГК).
Финансовое право – это право на электроэнергию как идеальное благо, которое реализуется генерирующими компаниями в отношении объемов электроэнергии, которые должны быть выработаны и выданы в сеть в определенные сроки, то есть речь идет не о торговле наличным имуществом. Поэтому финансовые права на электроэнергию по своей природе во многом аналогичны правам, предоставляемым покупателю при торговле на срочном рынке.
Физическое исполнение реализационных договоров на ОРЭМ фактически полностью возлагается на сетевую организацию. В отличие от договора энергоснабжения здесь нет обязанности обеспечить непосредственную передачу, физическое предоставление энергии потребителю. Поэтому в данном случае имеет место сугубо специфический договор, по которому передается именно право без необходимости исполнить. Вместе с тем следует помнить, что в данном случае речь идет фактически о стандартизированном биржевом контракте, который представляет собой своеобразный аналог биржевой срочной сделки, адаптированный применительно к нуждам энергорынка.
Значительная специфика финансовых прав связана с их особой ролью в договорных обязательствах, оформляющих их оборот. Дело в том, что финансовое право выступает не в качестве элемента содержания реализационного договора, а является его предметом. В связи с чем обязательственная природа данного права вызывает большие сомнения. Такой вывод следует из того, что данное право возникает не из самого обязательства, а из односторонней сделки – предоставления «эмитентом» данного права на торги в качестве предмета торгов (открытие позиции в биржевой торговле по данному праву).
Поскольку цель данных сделок в оплате определенных объемов электроэнергии, которые должны быть произведены в будущем, они не строятся как длящиеся правоотношения, а представляют собой отдельные сделки по оплате/предоставлению прав на потребляемые объемы электроэнергии. Поэтому реализационные договоры на ОРЭМ сконструированы именно как биржевые сделки, обязательственный элемент в данных договорах отходит на второй план.
Что касается физического права на электроэнергию, то по своему содержанию оно представляют собой право потребителя на отбор электроэнергии из электросети. Таким правом становится право, предоставляемое потребителю по договору энергоснабжения, а также право по договору на передачу электроэнергии, заключаемому конечным потребителем с сетевой организацией. Обращение физических прав направлено на покрытие затрат сетевых компаний.
В отличие от реализационных сделок на ОРЭМ эти договоры напротив, представляют собой отношения по обслуживанию, оформляют длящийся процесс энергоснабжения, в связи с чем обязательственный эффект в них крайне важен. В связи с этим физические права на электроэнергию являются обязательственными правами требования, подразумевают деятельное участие его сторон (сетевой организации и потребителя) в процессе исполнения соответствующих договоров.
Особенности физических прав на электроэнергию состоят в следующем:
• это права на получение или отбор электроэнергии из электросети, то есть право пользования электросетью.
• приобретаются конечными потребителями электроэнергии на ОРЭМ и РРЭ.
• целью их приобретения является физическая поставка электроэнергии.
• их оборот оформляется посредством применения специфических договорных конструкций (договор энергоснабжения, договор на передачу электроэнергии).
• выступают основным средством расчета (оплаты) за технологическую деятельность в сфере энергоснабжения.
В получении данного права заинтересован конечный потребитель, поскольку оно всегда подразумевает физическую поставку. Если в случае с финансовыми правами потребитель посредством их оплаты обеспечил выдачу генератором определенного количества электроэнергии в сеть, то посредством приобретения физического права на электроэнергию потребитель обеспечивает для себя возможность отбора соответствующего количества электроэнергии из электросети. Таким образом, подлинным распорядителем соответствующих объемов электроэнергии становится электросетевая организация. Распоряжение фактически полностью связано с распределением электроэнергии, учитывая одномоментность процессов производства и потребления.
В современной модели энергорынка финансовые и физические права не взаимосвязаны, искусственно разделены в рамках отдельных договорных обязательств (реализационных и транспортировочных). В рамках ОРЭМ они становятся самостоятельными предметами оборота. Однако в технологической модели производственного цикла энергоснабжения они находятся в непосредственной взаимосвязи. Так, предоставление физического права в значительной степени обусловлено пропускной способностью электросети, что не может не сказываться на объеме торгуемых финансовых прав.
При этом сами по себе финансовые права в отрыве от физических лишены смысла для потребителя. Крупные потребители, заключающие договоры купли-продажи электроэнергии на опте, всегда заключают также отдельные договоры на физическую поставку электроэнергии. В данном случае для обеспечения физической поставки электроэнергии (получения права на отбор электроэнергии) потребитель оплачивает генератору финансовое право на электроэнергию, а также физическое право на электроэнергию – сетевой компании (ФСК), чтобы получить возможность выбирать электроэнергию из электросети.
Физические и финансовые права могут оплачиваться конечным потребителем в рамках единых (смешанных) или раздельных договорных инструментов, в связи с чем на РРЭ выделяются конструкции договора энергоснабжения, купли-продажи электроэнергии. При этом сочетание в содержании договорных конструкций первого или второго вида прав определяет формирование договорных типов, применяемых в энергорынке.
Свирков С.А., к.ю.н.,
ст. преподаватель кафедры
гражданского и семейного права
МГЮА имени О.Е. Кутафина